Интервью с координатором «Четвертого сектора» Анастасией Сечиной
В 2021 году пермскую организацию «Четвертый сектор», объединявшую независимых журналистов-фрилансеров, признали «иностранным агентом» за тексты о преступлениях силовиков и публикации о том, как представители ЛГБТ-сообщества решаются на каминг-аут в гомофобных обществах. Члены организации решили ее ликвидировать, сейчас инициатива работает в неформальном статусе.
Мы поговорили с Анастасией о том, как «иноагентство» отразилось на бывших и нынешних участниках «Четвертого сектора», о новых проектах инициативы «Грибница» и «ГЛУШ», а также о том, может ли журналист быть вне политики сегодня и на какую журналистику есть запрос в российском обществе.
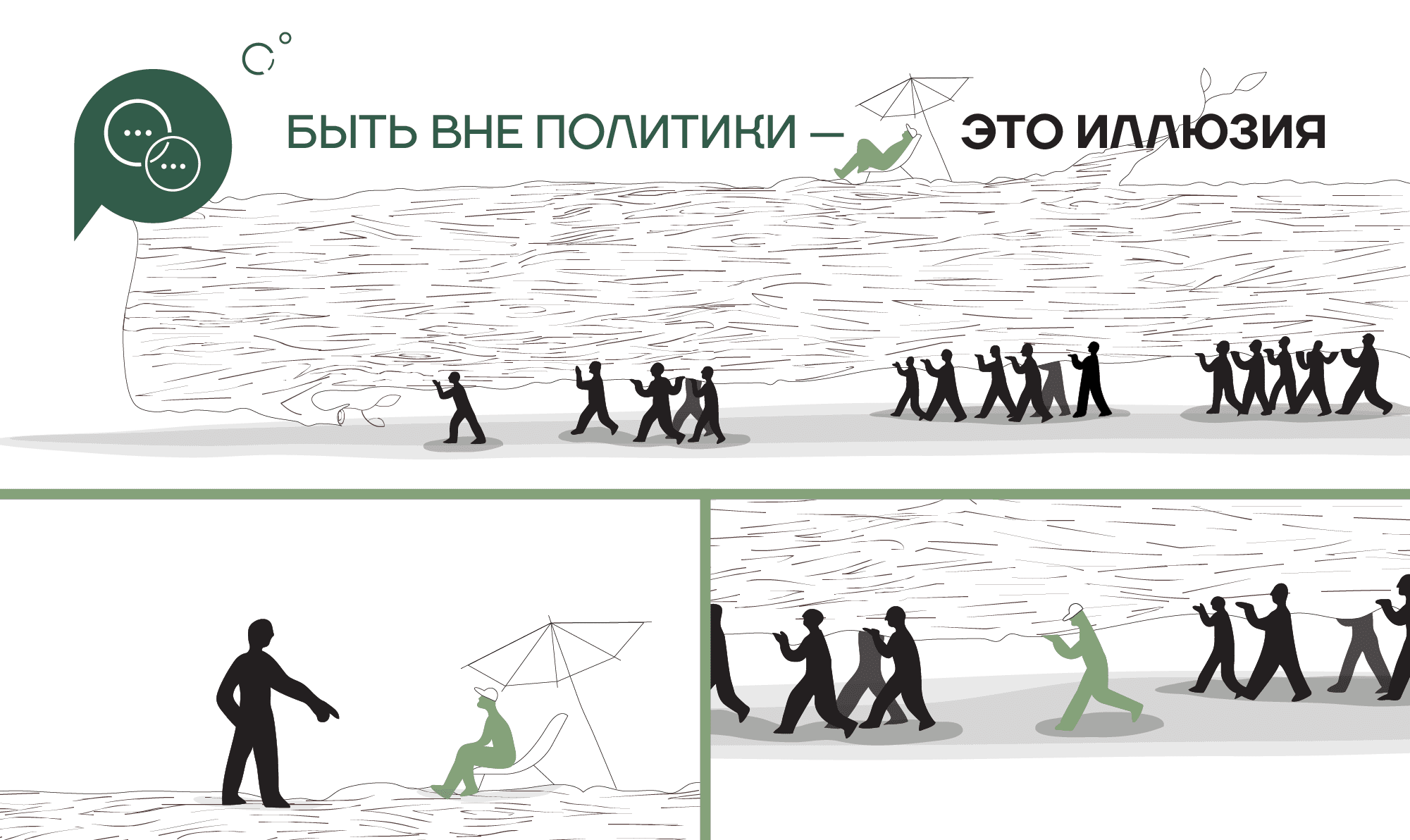
Расскажите, как появился проект «Четвертый сектор»? Чем вы занимались, какие цели ставили перед собой?
«Четвертый сектор» появился в 2017 году в Перми. Кроме меня, в команде проекта было еще двое журналистов, с которыми мы вместе работали сначала в одном пермском медиа, а потом — в другом. И там, и там мы сталкивались с вещами, которые нам не очень нравились. В конце концов, мы решили уходить в свободное плавание и делать такой проект, где будем играть только по своим правилам. «Четвертый сектор» мы задумывали как независимую фриланс-команду, участники которой не привязаны к какому-то конкретному СМИ. Мы сами создавали тексты, помогали друг другу с редактурой, поиском героев и так далее, а потом публиковали эти статьи в различных медиа.
В том же году наша команда начала работу над проектом «Грибница». По сути, он вырос из небольшого календаря дедлайнов, который я стала делать для нашей команды. В него я собирала информацию об образовательных программах, грантах и стипендиях для журналистов. Потом мы начали добавлять к календарю полезные инструменты для поиска информации, визуализации данных и так далее. В какой-то момент мы подумали: «А почему бы не выложить все в открытый доступ, чтобы коллеги из других СМИ тоже могли пользоваться этими инструментами?» Так и появилась «Грибница».
А можете подробнее рассказать о том, в каком СМИ вы работали с коллегами из «Четвертого сектора» и почему решили перейти на фриланс? Какие были причины?
Сначала мы работали на “Эхе Москвы” в Перми, и история нашего ухода была довольно грустной. Мы очень гордились тем, что радиостанция сама себя кормит, остается независимой и не пускает власть и бизнес в свой редакционный продукт. Потом ее купил кандидат в депутаты Государственной думы и начал насаждать там там свои правила и законы. Мы пытались этому сопротивляться, но не получилось. В какой-то момент меня вызвали к начальству и сказали: «Или делаешь то, что мы говорим, или собираешь вещи и уходишь». Я приняла решение уходить, и часть команды ушла со мной, в том числе те, кто потом помогал создавать «Четвертый сектор». С «Эха» мы уходили громко и со скандалом, об этом даже писали федеральные СМИ.
После этого мы перешли на работу в местный интернет-журнал — хороший журнал, но даже там возникли определенные проблемы с вмешательством учредителя в редакционную политику. Это было первой причиной для ухода. Вторая — то, что у всех регулярных изданий, где производство контента поставлено на поток, есть нормативы выдачи. Условно: новостники должны выдавать десять новостей в день. У нас нормативы были более свободные — два текста в неделю, один «лайтовый», другой глубокий — но даже от них мы устали, нам хотелось работать с темами более глубоко и в том темпе, который мы сами посчитаем нужным. Когда тема сложная, текст по ней можно писать несколько месяцев. И это хорошо! Я фанат slow-журналистики, мне нравится работать над продуктом долго — тогда результат получается по-настоящему качественным.
«Четвертый сектор» выпускал, в том числе, статьи с критикой работы полиции и системы ФСИН. Мне кажется, заниматься такими темами, будучи журналистом небольшого регионального издания, гораздо труднее, чем работая в условном Би-би-си. Это очень смелое решение. Работа как-то повлияла на жизни журналистов, которые такими темами занимались?
Мы с коллегами довольно давно выделили для себя две главные угрозы. Первая — государство с его безумными законами, вторая — психи. Например, мы делаем проект, связанный с ЛГБТ-тематикой, а потом получаем град комментариев от гомофобно настроенных сограждан. Обычно все это ограничиваются словами, но вообще такой человек может и в темной подворотне тебя встретить.
Угрозу, исходящую от государства, мы оценивали более серьезно. У инициативы «Четвертый сектор» было несколько юридических аватаров. Мы зарегистрировали себя в качестве СМИ, чтобы можно было нормально работать, делать запросы в госорганы и так далее и еще у нас была НКО. И в августе 2021 года эту НКО таки признали «иностранным агентом» (в конце июля 2021 года «Четвертый сектор» объявил о своем закрытии, это произошло после того, как Минюст начал внеплановую проверку организации. Процесс ликвидации завершися уже после признания «иноагентом» — прим. Kislorod).
Признали в том числе за наши статьи о правоохранительных органах. В акте проверки Минюста говорится, что публикации «Четвертого сектора» — например, текст о подозрительных смертях в отделениях полиции и исправительных колониях, которые особо никак не расследуются — создают негативный образ органов государственной власти и способствуют формированию негативного отношения к ним.
Также в документе упоминался наш проект «Мы принимаем». Он был посвящен людям, которые совершили каминг-аут в странах с высоким уровнем гомофобии: в России, Казахстане, Кыргызстане и так далее. Минюст посчитал это пропагандой лояльного отношение к ЛГБТ, что противоречит государственной политике.
Наконец, нам вменили то, что мы выходили на пикеты в поддержку журналистов Ивана Голунова и Ивана Сафронова (Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан в 2019 году, позже выяснилось, что полицейские сами подбросили ему наркотики. Бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов в сентябре этого года был приговорен к 22 годам тюрьмы по делу о госизмене — прим. Kislorod). Власти посчитали это политической деятельностью. То, что мы выходили на пикеты не от лица организации, а как отдельные граждане и никаких денег за это, конечно же, не получали, в Минюсте никого не смутило.
Признание иноагентами по нам сильно ударило. В 2021 году мы хотели расширять «Четвертый сектор» и сформировать артель журналистов-фрилансеров. Но случился Минюст и иноагентство. Кто-то ушел из инициативы, сказав, что его пообещали уволить с основной работы за связь с иноагентами. Кто-то просто выгорел и ушел из журналистики вообще. В общем, все начало потихоньку разваливаться.
Чтобы внести кого-то в реестр иноагентов, Минюст должен найти у человека или организации «иностранное финансирование» — даже если это донат от подписчика из Беларуси. За какие деньги вас внесли в этот список?
Тут сразу хочется сказать, что я не считала, не считаю и не собираюсь считать сотрудничество с иностранными фондами чем-то преступным.
У нас действительно был совместный проект с Фондом Фридриха Науманна. На его реализацию мы получили, в общем-то, довольно небольшие деньги, так что иностранное финансирование в нашей НКОшке все-таки было. Вопрос в том, какая связь у этих денег с тем, что нам вменил Минюст. Эта связь, как мы увидели, совсем не обязательна. Окей, проект «Мы принимаем» действительно был отчасти сделан на иностранные деньги. Но за наши тексты о работе полиции мы никакого финансирования из-за рубежа не получали. За пикеты и митинги, конечно же, мы тоже никаких иностранных денег не получили.
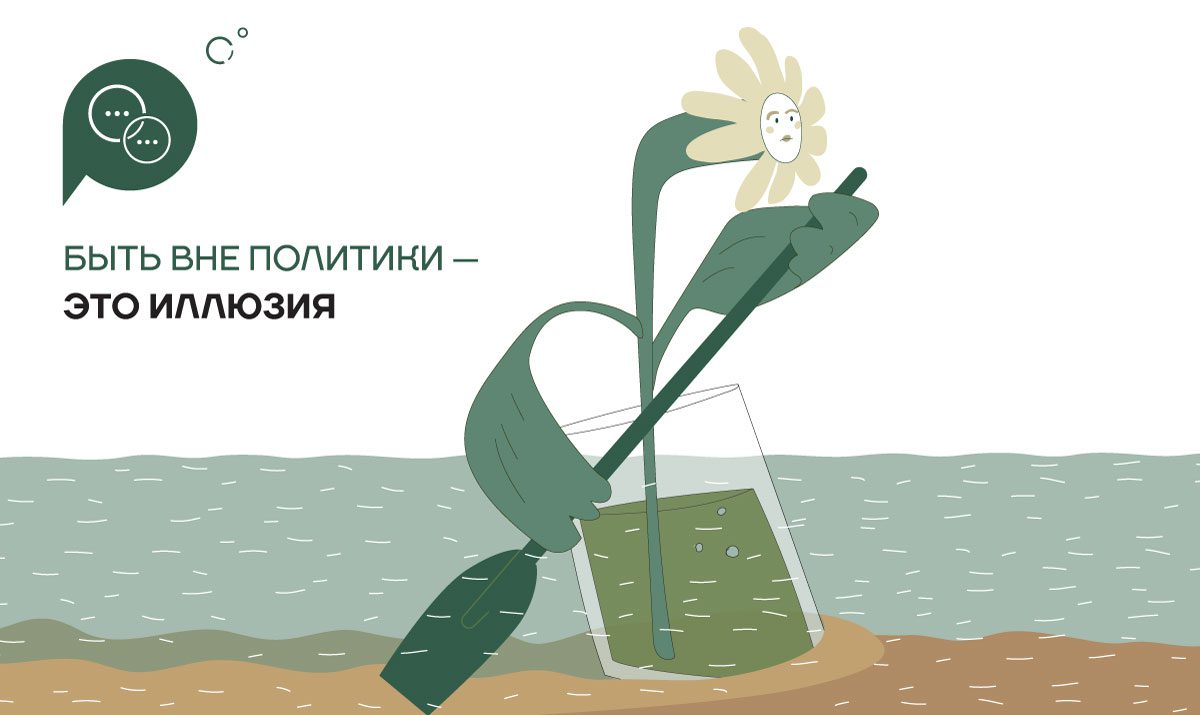
Хочу поговорить о том, как вашу работу встречали читатели. Насколько я понимаю, целевая аудитория «Четвертого сектора» — это люди, живущие в регионах, верно?
Да. В смысле журналистики мы смотрели и смотрим туда, в регионы. Децентрализация, регионализация — ключевые принципы нашей организации. Кроме этого, мы топим за коллаборацию в самых разных формах и, конечно, слоу-журналистику.
Как аудитория откликалась и откликается на вашу работу? В интернете нередко можно встретить утверждения, что люди в регионах только телевизор смотрят, что все они там промытые пропагандой. Как вам кажется, в регионах есть запрос на независимую журналистику?
Говорить, что в регионах все промытые — по меньшей мере, странно. В плане журналистики у нас есть очень сильные регионы типа Перми и Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Иркутска, Петрозаводска, Калининграда. Это такие локальные журналистские аномалии: там сильные журналисты и всегда было много хороших медиа-проектов. Сейчас их меньше, и оставшихся сильно прессуют. На юге страны тоже можно найти хорошие проекты: в Краснодаре, в Ростове. С Дальним Востоком и центральной Россией ситуация похуже. Однако в других регионах сильные журналисты были, есть и продолжают работать, несмотря на всю сложность положения. Мне кажется, тут даже не приходится говорить о том, есть ли запрос на независимую журналистику. Конечно, есть.
Хочу остановиться на слове «независимый». В манифесте «Четвертого сектора» есть довольно резкие, как мне показалось, слова в адрес коллег, которые посмеиваются над словосочетанием «независимое медиа». Можете как-то это прокомментировать?
Мне кажется, мы с коллегами по «Четвертому сектору» в плане медиа немножечко отбитые люди. У нас есть принципы, которые мы ни за что не будем переступать. Это тоже своего рода аномалия. Сегодня в медиа-сообществе очень много людей, которые живут в совершенно другой реальности. В реальности, где на первую полосу издания можно не вынести главную тему последних недель про мобилизацию, а поставить туда, условно, лайтовый репортаж про чаепитие в музее. Есть множество коллег, которые считают, что СМИ в регионах могут выживать только на бюджетные деньги. Есть люди, которые не видят никаких различий между работой журналистов и работой пресс-службы. И им без разницы, где работать. Но мне, например, не без разницы.
Короче говоря, у меня нет иллюзий насчет журналистского сообщества. Почему в нашем манифесте есть такие резкие слова? Потому, что мы пытаемся найти и собрать вокруг себя именно тех людей, для которых точно также очень важны определенные журналистские принципы, которые стараются поддерживать высокую планку профессии и тому подобное. Таких людей немного, но они есть.
Мне сейчас такой вопрос в голову пришел. Есть же довольно много людей, которые работают в журналистике и говорят: «Я вне политики, я пишу про культуру, про музеи, про бьюти». Как вам кажется, сегодня это возможно — работать в журналистике и позиционировать себя как человека вне политики?
Да в общем мы уже все увидели, к чему приводит позиционирование себя как человека вне политики.
Я по поводу «вне политики» вспоминаю одну историю. Несколько лет назад я была на журналистской конференции, где было много коллег из других регионов, активистов и так далее. Там презентовали один проект, который, кажется, собирался помогать людям составлять жалобы в прокуратуру. И его авторы говорили: «Мы вне политики, мы просто помогаем составлять жалобы». А был другой проект, который занимался тем, что боролся против дресс-кода в ночных клубах. И они говорили: «А мы — политика». И мне их позиция ближе. Казалось бы, дресс-код в клубах — ну ерунда какая-то! Однако эти люди, по сути, выступали за свободу самовыражения. И для них их деятельность — это политика.
Многие журналисты находили некое убежище в том, что они «вне политики». Да, я работаю в государственном СМИ, но я же не пишу про политические дела, не занимаюсь прямыми манипуляциями, я тут про котиков или про культуру — ипотека же сама себя не заплатит. Я не буду давать этому оценок, просто скажу, что я бы так не смогла.
Конечно, ситуации бывают разные. Можно представить, почему тот или иной человек соглашается работать в государственном СМИ. Представить и понять. Но, повторюсь, я бы так не смогла. Когда работаешь в государственном СМИ, даже в культуре приходится так или иначе повергать себя цензуре или самоцензуре. Что, у нас в культуре мало политических историй что ли? Я не знаю, какую тему можно придумать, про которую можно сказать, что она прямо вообще вне политики. Про котиков разве что.
В общем, мне кажется, что «вне политики» — это иллюзия. Журналист, который успокаивает себя этим, творит вокруг себя иллюзию.
А как вы сами не побоялись уйти из редакции на фриланс? Это же очень нестабильный заработок. Есть ли у вас та самая ипотека, которую надо платить? Семья, которую надо кормить? Как вы на все это решились?
У нас с мужем трое детей, и муж тоже фрилансер. Ипотеки нет, мы довольно долго жили по съемным квартирам. Мне кажется, я никогда в жизни не возьму ипотеку, потому она создает очень сильное ощущение несвободы: ты постоянно чувствуешь, что надо кормить ипотеку. К тому же, она крепко привязывает тебя к месту. Вот ты взял ипотеку, вбухал кучу денег, потом надо уехать, а ты думаешь: «Блин, я не могу, я же столько денег в это жилье вложил».
Два с половиной года назад мы продали квартиру в Перми, которая досталась от родителей, и переехали в Краснодарский край. Купили домик под Краснодаром. Так у нас впервые появилось своё собственное жилье. Вообще-то оно и сейчас есть, только мы теперь не в Краснодаре. В марте мы уехали из России, и очень больно было оставлять этот дом: мы его обустроили, обжили, полюбили. Пришлось с корнем от себя отрывать. Сейчас опять квартиру снимаем, мне кажется, я еще долго не захочу иметь дело ни с какой недвижимостью, чтобы не привязываться к ней.
Что касается того, как мы решились на фриланс… С тремя детьми, конечно, поначалу было очень трудно. Мы залезли в долги, съели почти всю кредитку. Но на фрилансе, как в университете, наверное. Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. Первое время ты обрастаешь связями и контактами в новой сфере, заводишь полезные знакомства, пробуешь делать небольшие проекты. Потом уже становится проще: проще разговаривать, презентовать себя, находить заказы, коллеги начинают тебя рекомендовать друг другу. Постепенно собирается пул заказчиков, утрясается рабочее расписание, и наступает какая-то стабильность.
Вопрос про медленную журналистику. Есть такое ощущение, что сейчас многим изданиям важнее первым опубликовать новость, поставить ее на сайт, запостить в Телеграм-канал, а более глубокие, «медленные» материалы как будто не столь востребованы. Что вы об этом думаете?
Какой-нибудь канал типа «Жесть! Саратов», где постят видео с ДТП и прочую ерунду, всегда будет иметь больше подписчиков, чем канал качественного местного издания. То есть мы можем сказать, что запрос на жесть правда есть, и она правда более востребована, чем все остальное. Ну и что, мы должны производить только жесть? Понятно же, что нет.
Допустим, что запроса на медленную журналистику нет. Что тогда? Когда-то в обществе не было запроса на тексты о бездомных, но журналисты стали эту тему поднимать, и отношение к бездомным людям начало меняться. Интересно получается. Мне, если честно, пофиг, есть ли запрос. Есть вещи, которые кажутся важными, — значит, мы будем о них писать, независимо от того, есть ли запрос.
А по поводу скорости и того, кто там первый что опубликовал — это всегда было. В журналистике всегда была эта история, что надо успеть раньше остальных. Быстрая журналистика тоже нужна, потребность в ней не исчезла. Есть новостные издания, которые работают с оперативной повесткой, и делают это замечательно. Они ведут онлайны по разным ситуациям, где обновления выходят буквально одной строкой, когда появляется новая информация. Однако те, кто до сих пор думает, что опубликовать новость первыми — это самое главное… Скажем так, мне кажется, они сильно переоценивают важность этого обстоятельства.
Что касается медленной журналистики, то запрос на нее, конечно, есть. Просто одни журналисты быстро отрабатывают текущие инфоповоды, быстро о чем-то пишут и быстро выкладывают, — а другие занимаются более долгими темами. Вот приходит журналист, берет какое-то дело, берет еще десять похожих, созванивается с экспертами, смотрит статистику — и понимает, что есть целое явление, о котором надо рассказать. И он расскажет об этом явлении, сделает длинную глубокую статью. Тут никто не хуже и не лучше, запрос есть и на быстрые новости, и на долгие репортажи, на все найдется свой читатель.
Как сложилась судьба команды «Четвертого сектора» после признания вас иноагентами?
Внесение в реестр сильно повлияло на людей чисто эмоционально. Кто-то ушел из проекта из-за угрозы личной финансовой стабильности, кто-то ушел из профессии (правда, позже вернулся обратно). По большому счету, после признания нас иноагентами все начало рассыпаться. Мы до этого пытались сделать из «Четвертого сектора» артель журналистов-фрилансеров, набрать туда еще людей, расшириться. Буквально в январе этого года пытались нащупать какие-то точки опоры, появились идеи, как дальше двигаться и в каком формате. Но потом случилась война, и идею с формированием артели это окончательно убило.
Нас раскидало по разным локациям, все решали множество бытовых, выживальческих проблем. Было не до артели: люди думали, где им жить, работать и на что содержать семью. Плюс были внутренние разногласия в самой группе, которые мы так и не смогли разрешить.
Двое из основателей «Четвертого сектора» создали собственный проект — «Новую вкладку». Это отчасти реализация той артельской концепции, о которой мы думали, такая «редакция без редакции». У «Новой вкладки» есть пул фрилансеров, которые пишут тексты, а потом они выходят и на сайте издания, и в каком-нибудь другом медиа.
Я с еще несколькими коллегами продолжила заниматься «Четвертым сектором». Это по-прежнему некоммерческая инициатива, только теперь неформальная – у нас нет статуса ни НКО, ни СМИ. Мы делаем несколько проектов — «Грибница», «ГЛУШ» и «Sолянка».
Вы определяете «Грибницу», «ГЛУШ» и «Sолянку» как помогающие проекты для журналистов. С какими запросами к вам чаще всего обращаются? С чем журналистам сегодня бывает нужна помощь?
Я бы не сказала, что мы работаем по запросам. Как уже говорилось, «Грибницу» можно сравнить с общей записной книжкой медийщика, куда мы складываем инструменты, полезные статьи, книжки, ссылки на гранты, стипендии и так далее. Мы сейчас переделываем сайт, и в новой версии уделяем больше внимания возможности совместного наполнения – рассчитываем на то, что проект станет краудсорсинговым, и любой журналист сможет добавлять в «Грибницу» все то, что я перечислила выше.
Кроме этого, есть грибничное коммьюнити в Facebook, и вот туда периодически приходят запросы в духе «Помогите найти оператора» в каком-нибудь городе. Или «Скажите, как у вас в организациях сделано то или это». Недавно написал главред одного локального издания и попросил провести отраслевой опрос о том, как редакции в регионах работают с темой сборов средств в помощь мобилизованным. Мы опросили нескольких редакторов и выпустили текст — вот такой пример работы по запросу есть. Нам бы вообще хотелось, чтобы таких конкретных запросов было больше, потому что работать по запросу — это здорово, это помогает ощутить свою полезность.
«ГЛУШ» — другая история, там уже мы работаем только с запросами редакций, некоммерческих инициатив, отдельных журналистов. Проект помогает искать людей с медианавыками в разных локациях: авторов, фиксеров, волонтеров, менторов и так далее.
На сайте «Грибницы» раньше была публичная база профайлов медиалюдей — авторов, фиксеров и так далее. Вы убрали профайлы из публичного доступа. Почему?
Во-первых, при заполнении своего профайла люди давали ссылки на свои материалы, некоторые из которых сегодня было бы нежелательно иметь в привязке к себе и своему проекту. Сейчас довольно распространена практика, когда редакции скрывают имена авторов тех или иных «нескрепных» текстов, чтобы людей обезопасить, а у нас имя сохраняется, что, понятно, не очень здорово для этих журналистов.
Во-вторых, после начала войны мы быстро поняли, что сохранить «Грибницу» нейтральной у нас не получится. Мы с самого начала называем войну войной, высказываемся против, делаем публикации, в которых упоминается война, мобилизация и так далее. Чей-нибудь профайл на «Грибнице» наши власти могли бы запросто связать с антивоенной позицией самой «Грибницы». У нас же очень затейливо работает вся эта система. Такого рода связь для людей в России сейчас может быть опасной. Мы решили перестраховаться и исключить даже возможность того, что что-то подобное может произойти, очень не хочется кого-то подставлять.
С анонимностью авторов, думаю, понятно. А что насчет анонимности героев? Насколько это усложняет работу журналиста? Например, я нашла героя, который готов сообщить очень важную информацию, но он согласен это сделать только анонимно. Это снизит доверие к статье? Сейчас, кажется, все больше людей хотят говорить с журналистами только анонимно. Как нам быть?
Принимать ту реальность, с которой мы имеем дело. Понятно, что анонимность снижает доверие к статье. Прекрасно, когда персонаж готов говорить не анонимно, но реалии таковы, что очень часто это сделать невозможно. В таком случае надо понять, может ли герой подтвердить свои слова чем-то еще: документами, фото- или видеоматериалами, может быть, он даст контакты других людей, которые скажут «Да, все действительно так». Источник может быть анонимным, наша задача — все проверить и убедиться в том, что он говорит правду.
Конечно, когда нет ничего, кроме слов человека, это сложнее. Как быть с историями людей, который возвращаются с тех же военных действий и что-то рассказывают? Часто мы не можем проверить их слова чисто физически. На этот случай есть другие законы и правила фактчекинга. Когда человек описывает свой личный опыт, надо задавать ему как можно больше вопросов. Если в какой-то ситуации мы поймали его на нестыковках, если он не смог чего-то объяснить, начал сам себе противоречить — это сигнал, что ему нельзя доверять. Опять же, если герой упоминает третьих лиц, с ними надо связаться и тоже поговорить, чтобы они подтвердили какие-то факты или связи.
Понятно, что анонимность героев и авторов снижает доверие к тексту. Но риски сейчас настолько высоки, что нам приходится иметь дело с анонимностью и работать со всем, с чем возможно.
«ГЛУШ» и «Грибница» были задуманы как волонтерские или коммерческие проекты, которые будут приносить деньги? В каком виде они продолжат существовать?
У Грибницы в разное время были разные источники. Немножко денег мы собирали донатами, просто на текущие расходы, чтобы продлять хостинг сайта, например. Была грантовая поддержка. Но был и период, когда мы вели проект на волонтерской основе, совершенно бесплатно. «ГЛУШ» — сейчас немного смешно об этом говорить — я задумывала как коммерческий проект: мы думали, что в качестве посредника будем соединять редакции с исполнителями и брать что-то вроде «абонентской платы» или иметь небольшой процент с гонорара. Но как-то быстро я поняла, что «ГЛУШ» — это вообще не история про зарабатывание денег. Многие редакции зарабатывают ровно столько, чтобы выжить и удержать свои штаны, а тут еще мы будем требовать с них процент за поиск исполнителей. В общем, это не про нас.
Ни «Грибница», ни «ГЛУШ» не будут коммерческими проектами. Могу допустить, что мы сделаем какой-нибудь образовательный проектик типа английского для журналистов и таким образом будем зарабатывать себе на жизнь. К тому же, я очень рассчитываю на то, что «Грибница» станет краудсорсинговой, что сами пользователи будут ее наполнять, и нам не нужно будет тратить много сил и времени на ее поддержание. «ГЛУШ» сейчас не отнимает много времени, запросов пока что приходит не слишком много, и с координацией проекта я справляюсь одна. Но был период, когда запросы приходили каждый день. Это сейчас наступило небольшое затишье. Если запросов в будущем опять станет больше, будем думать, как быть: либо автоматизируем какие-то процессы, либо поищем координаторов-волонтеров.
Понятно, что тратить деньги на проекты все равно приходится, даже на тот же домен. Мы думали, что будем с нового года собирать донаты от целевой аудитории, но сейчас, если честно, делать это как-то неловко. Мне кажется, есть много проектов, которым эти деньги нужнее, не хочется перетягивать на себя одеяло и переманивать жертвователей. Может быть, вместо этого мы запустим потихонечку линейку мерча. В общем, что-нибудь придумаем.
Записала Катя ШУБИНА
